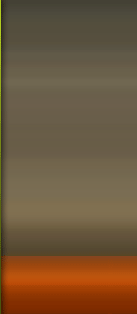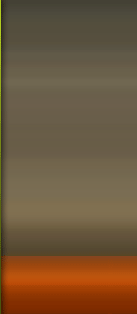РАСКОЛЬНИКОВ — герой романа Ф.М.Достоевского «Преступление и
наказание» (1865-1866). Образ Р. в общекультурном сознании выступает
как сугубо идеологический, нарицательный и эмблематичный, оказываясь в
ряду так называемых мировых художественных образов, таких, как Дон
Кихот, Дон Жуан, Гам-лет, Фауст. Отсюда возникает проблема прототипов,
поскольку образ Р. в равной степени несет конкретно-социальный
(привязанный к известной исторической эпохе) и вместе с тем
вневременной, общечеловеческий смысл, в конечном итоге стремясь к
архетипичности, надындивидуальное™, универсальной этической значимости.
Следовательно, прототипы образа Р. можно поделить на реальные,
почерпнутые Достоевским преимущественно из уголовной газетной хроники,
исторические и литературные. В двух последних приоритетным принципом
художественного отбора становятся для Достоевского не внешние черты
исторической личности или персонажа, а способ мышления, доминирующая
идея.
Реальный прототип образа Р. — приказчик Герасим Чистов, раскольник 27
лет, убивший топором в январе 1865 г. в Москве двух старух (кухарку и
прачку) с целью ограбления их хозяйки, мещанки Дубровиной. Из железного
сундука были похищены деньги, серебряные и золотые вещи. Убитые были
найдены в разных комнатах в лужах крови (газета «Голос» 1865, 7-13
сентября). Другой прототип — А.Т.Нео-фитов, московский профессор
всеобщей истории, родственник по материнской линии тетки Достоевского
купчихи А.Ф.Куманиной и наряду с Достоевским один из ее наследников.
Неофитов проходил по делу подделывателей билетов 5%-ного внутреннего
займа (ср. мотив мгновенного обогащения в сознании Р.). Третий прототип
— французский преступник Пьер Франсуа Ласенер, для которого убить
человека было то же, что «выпить стакан вина»; оправдывая свои
преступления, Ласенер писал стихи и мемуары, доказывая в них, будто он
«жертва общества», мститель, борец с общественной несправедливостью во
имя революционной идеи, якобы подсказанной ему социалистами-утопистами
(изложение процесса Ласенера 1830-х годов на страницах журнала
Достоевского «Время», 1861, №2).
Исторические прототипы: Наполеон Бонапарт, Магомет. Указывая на
исторические корни образа Р., нужно внести существенный корректив: речь
идет скорее о «прототипах образов идей» (М.М.Бахтин) этих личностей,
нежели о них самих, причем идеи эти трансформируются в общественном и
индивидуальном сознании согласно характерным особенностям эпохи
Достоевского. В марте 1865 г. выходит книга французского императора
Наполеона III «Жизнь Юлия Цезаря», где отстаивается право «сильной
личности» нарушать любые нравственные нормы, обязательные для
обыкновенных людей, «не останавливаясь и перед кровью». Книга вызвала
ожесточенную полемику в русском обществе и послужила идейным источником
теории Р. (Ф.Евнин). «Наполеоновские» черты образа Р. несомненно несут
следы воздействия образа Наполеона в интерпретации А.С.Пушкина
(противоречивая смесь трагического величия, подлинного великодушия и
безмерного эгоизма, приводящего к фатальным последствиям и краху,—
стихотворения «Наполеон», «Герой), как, впрочем, и отпечаток
эпигонского «наполеонизма» в России («Мы все глядим в Наполеоны» —
«Евгений Онегин»). Ср. слова Р., втайне сближавшего себя с Наполеоном:
«Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого
сердца. Истинно великие люди, мне кажется, должны ощущать на свете
великую грусть». Ср. также провоцирующе-иронический ответ Порфирия
Петровича: «Кто ж у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает?»
Реплика Заметова тоже пародирует повальное увлечение «наполеонизмом»,
ставшее пошлым «общим местом»: «Уж не Наполеон ли какой будущий нашу
Алену Ивановну на прошлой неделе топором укокошил?» В том же ключе, что
и Достоевский, «наполеоновскую» тему решал Л.Н.Толстой
(«наполеоновские» амбиции Андрея Болконского и Пьера Безухова и их
полное разочарование в «наполеонизме»). Достоевский, безусловно,
учитывал, кроме того, комический аспект образа Наполеона, запечатленный
у Н.В.Гоголя (Чичиков в профиль — почти Наполеон). Идея
«сверхчеловека», наконец, разрабатывалась в книге М.Штирнера
«Единственный и его собственность», которая имелась в библиотеке
Петра-шевского (В.Семевский) и послужила еще одним источником теории
Р., ибо статья его, разбираемая Порфирием Петровичем, написана «по
поводу одной книги»: это может быть книга Штирнера (В.Кирпотин),
Наполеона III (Ф.Евнин) или трактат Т.де Квинси «Убийство как одно из
изящных искусств» (А.Алексеев).
Подобно тому как Магомет в пещере Хира испытывал муки рождения новой
веры, Р. вынашивает «идею-страсть» (по выражению поручика Пороха, Р.—
«аскет, монах, отшельник»), считает себя пророком и провозвестником
«нового слова». Закон Магомета, по мысли Р., закон силы: Магомета Р.
представляет с саблей, он палит из батареи («дует в правого и
виноватого»). Выражение Магомета о челове ке как «дрожащей твари»
становится лейтмотивом романа и своеобразным термином теории Р.,
поделившим людей на «обыкновенных» и «необыкновенных»: «Тварь ли я
дрожащая или право имею? < ...> Велит Аллах, и повинуйся,
«дрожащая» тварь!» (Ср.: «И пришел я со знаменем от вашего господа.
Побойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне»,— Кор., 2,44,50). Ср. также
«Подражания Корану» А.С.Пушкина: «Люби сирот, и мой Коран // Дрожащей
твари проповедуй» (В.Борисова). Для Достоевского Христос и Магомет —
антиподы, а Р. отпал от Бога, о чем говорит Соня Мармеладова: «От Бога
вы отошли, и вас Бог поразил, дьяволу предал!»
Литературные прототипы: библейский Иов (В.Этов). Точно Иов, Р. в
состоянии кризиса решает «последние» вопросы, бунтует против
несправедливого мироустройства, как и в случае с Иовом, Бог в финале
приходит к Р.; байроновские герои-бунтари (Корсар, Лара, Манфред)’, Жан
Сбогар, герой одноименного романа Ш.Нодье, благородный разбойник и
индивидуалист; Ускок (Ж.Санд), пират, приобретший богатство и славу
ценой преступления; Растинъяк О.Бальзака; Жюльен Сорепь Стендаля;
Медард Гофмана («Эликсиры сатаны»); Фауст; Гамлет; Франц и Карл Моор
(Ф.Шиллер. «Разбойники»). С образом последнего особенно тесно связана
этическая проблематика романа: Карл Моор и Р. равным образом загоняют
себя в нравственный тупик. «Карл Моор,— пишет Г.Гегель,— пострадавший
от существующего строя, < ...> выходит за пределы круга
законности. Сломив стеснявшие его оковы, он создает совсем новое
историческое состояние и провозглашает себя восстановителем правды,
самозваным судьей, карающим неправду, < ...> но эта частная месть
оказывается мелкой, случайной — при ничтожности средств, которыми он
располагает,— и приводит только к новым преступлениям».
С пушкинским Германном («Пиковая дама») Р. роднит сюжетная ситуация:
поединок жаждущего разбогатеть бедняка Германна и графини, Р. и
старухи-процентщицы. Германн морально убивает Лизавету Ивановну, Р.
убивает Лизавету Ивановну реально (А.Бем). С Борисом Годуновым и
Сальери Р. сближают мрачные сомнения и нравственные терзания после
преступления; бунт Р. напоминает бунт Евгения из «Медного всадника»,
осмелившегося вступить в противоборство с государственным монолитом —
холодным и враждебным человеку Петербургом. Мотив крайнего
индивидуализма связывает Р. с лермонтовскими Вадимом, Демоном,
Печориным (с последним еще и мотив морального экспериментирования), а
также с гоголевским Чартковым («Портрет»). В контексте творчества
самого Достоевского Р. продолжает череду героев-теоретиков (вслед за
«подпольным героем» «Записок из подполья»), предваряя образы
Ставрогина, Версилова, Ивана Карамазова. В то же время в Р.
присутствуют симпатичные черты «мечтателей» раннего творчества
Достоевского, суть которых — чувствительность, состра- 339 дание
ближнему и готовность прийти на помощь (Ордынов из повести «Хозяйка»,
мечтатель из «Белых ночей»).
Имя Р. приобретает символическое значение: раскол означает раздвоение,
понимаемое в широком смысле. Здесь и этическое раздвоение Р. (убийство
— любовь к ближним, преступление — муки совести, теория — жизнь), и
раздвоение непосредственного переживания и самонаблюдения — рефлексия
(С.Аскольдов). Ср. «пробу» Р. перед убийством: Р. идет к
старухе-процентщице, но одновременно мыслит: «О боже, как все это
отвратительно < ...>. И неужели такой ужас мог прийти мне в
голову…» Наконец, бунт против мироустройства, богоборчество — и поиски
веры, итоговый приход Р. к смирению. Имя и отчество Р. тоже символичны:
Р., по наблюдению С.Белова, «раскалывает» породившую (имя Родион) его
мать-землю, «раскалывает» родину Романовых (отчество: Романович). Кроме
того, раскольничество Р. идейное, восходящее, во-первых, к церковному
расколу и, во-вторых, к губительным реформам Петра, приведшим, по
Достоевскому, к расколу между интеллигенцией и народом, что неминуемо
привело к параличу русской церкви. Раскольничество к тому же —
одержимость одной идеей, фанатизм. Парадоксально, что вину за
преступление нигилиста Р. принимает на себя раскольник Миколка
(М.Альтман). Предательство Р. родины, корней, своего нравственного
существа постоянно подчеркивается Достоевским: Р. закладывает
старухе-процентщице серебряные часы отца («проба»), тем самым как бы
отрекаясь от рода; совершив преступление, он словно «ножницами
отрезает» себя от людей, в особенности от матери и сестры. Убийство
есть в сущности «матереубийство» (Ю.Карякин).
Смысл образа Р. также «двоится», раскалывается как в глазах окружающих
его персонажей, так и в оценках читателей и исследователей. Достоевский
использует прием «двойного» портрета: «Кстати, он был замечательно
хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше
среднего, тонок и строен». Убийство и мучительные сомнения по поводу
собственной теории пагубно отразились на его внешности: «Р. <
...> был очень бледен, рассеян и угрюм. Снаружи он походил как бы на
раненого человека или вытерпливающего какую-нибудь сильную физическую
боль: брови его были сдвинуты, губы сжаты, взгляд воспаленный».
Образ Р. рисуется Достоевским с помощью символических лейтмотивов. Идея
Р. зарождается в каморке, похожей на «шкаф» и «гроб». Р. замыкает свой
«гроб» на «крючок», отгора-.-живаясь от мира. В момент преступления Р.,
вспомнив, что забыл закрыть дверь, второпях накидывает крючок. Кох
дергает дверь: «В ужасе смотрел Р. на прыгавший в петле крюк запора и с
тупым страхом ждал, что вот-вот и запор сейчас выскочит». Р. готов был
ударом топора совершить еще одно убийство. Едва мещанин бросает Р.
обвинение («Убивец!»), у Р. «сердце на мгновение как будто замерло;
потом вдруг застукало, точно с крючка сорвалось». Свидетелем,
подтверждающим вину Миколки, выступает «надворный советник Крюков»
(А.Гозенпуд). Порфирий Петрович видит спасение Р. в явке с повинной —
только так Р. выйдет из «гроба» и глотнет свежего «воздуху» («…всем
человекам надобно воздуху, воздуху, воздуху-с»).
Пространственная топография, связанная с образом Р., свидетельствует о
кризисе, падении и возрождении Р.: «порог» (принять решение на пороге),
лестница (Р. символически то спускается в ад — 13 ступенек вниз из
каморки,— то восходит к людям и Богу), «аршин пространства» («А ведь я
уже соглашался жить на аршине пространства!»), панорама с Исаакиевского
собора «самого умышленного города в мире», самого «сочиненного», самого
фантастического, где витает «дух немой и глухой», способствующий
зарождению теорий, подобных теории Р.
Образ Р. «антропоцентричен» (Н.Бердяев): все герои романа притягиваются
к Р., выносят ему пристрастные оценки. (Ср. слова Свидри-гайлова: «У
Родиона Романовича две дороги: или пуля в лоб, или по Владимирке».) В
Р. присутствуют как бы два человека: «гуманист и индивидуалист»
(В.Этов). Индивидуалист убивает Алену Ивановну обухом топора (точно сам
рок толкает безжизненную руку Р.); измазавшись в крови, Р. перерезает
топором шнурок на груди старухи с двумя крестами, иконкой и кошельком,
вытирает окровавленные руки о красный гарнитур. Беспощадная логика
вынуждает Р., претендующего в своей теории на эстетизм, зарубить
Лизавету острием топора — Р. точно входит во вкус кровавой бойни.
Награбленное Р. прячет под камень. Сокрушается, что не «переступил
через кровь», не оказался «сверхчеловеком», а предстал «вошью
эстетической» («Разве я старушонку убил? Я себя убил…»), мучается
оттого, что мучается, ведь Наполеон бы не мучился, ибо «забывает армию
в Египте < ...> т р а т и т (разрядка Достоевского.— А.Г.)
полмиллиона людей в московском походе». Р. не осознает тупиковость
своей теории, отвергающей незыблемый нравственный закон, суть которого
в том, что «всякая человеческая личность есть верховная святыня
совершенно независимо от того, каковы моральные достоинства этого
человека, никто не может быть средством в руках другого, а каждый
составляет цель в себе…». Р. нарушил нравственный закон и пал,
поскольку обладал нравственным сознанием, «совестью, и она мстит ему за
попрание нравственного закона» (М.Туган-Барановский). С другой стороны,
Р. великодушен, благороден, отзывчив, из последних средств помогает
больному товарищу; рискуя собой, спасает детей из огня пожара, отдает
материнские деньги семейству Мармеладовых, защищает Соню от клеветы
Лужина; у него задатки мыслителя,
ученого (Ф.Евнин). Порфирий Петрович говорит Р., что тот имеет «великое
сердце», сравнивает Р. с «солнцем» («Станьте солнцем, вас все и
увидят»), с христианскими мучениками, за свою идею идущими на казнь.
В теории Р., как в фокусе, сосредоточиваются все противоречивые
нравственные и душевные свойства Р. Прежде всего, по замыслу Р., его
теория сверхлична, она констатирует, будто всякий человек «подлец», а
социальная несправедливость в порядке вещей: рассказ Мар-меладова о
Сонечкиной жертве (чтобы накормить детей Мармеладова, Соня выходит на
панель) ассоциируется в сознании Р. с самопожертвованием Дуни
Раскольниковой, выходящей замуж за Лужина ради него, Р.: «…вечная
Сонечка, пока мир стоит!»; «Ай да Соня! Какой колодезь, однако ж,
сумели выкопать! и пользуются < ...> Поплакали, и привыкли. Ко
всему-то подлец-человек привыкает!» Р. отвергает сострадание, смирение
и жертвенность, выбирая бунт. Вместе с тем в мотивах его преступления
заложен глубочайший самообман (Ю.Карякин): освободить человечество от
вредной старушонки, награбленные деньги отдать сестре и матери, тем
самым спасая Дуню от сладострастных лужиных и свидригай-ловых. Р.
убеждает себя в простой «арифметике», будто с помощью смерти одной
«гадкой старушонки» можно осчастливить человечество. Вопреки самообману
главный мотив преступления — эгоистический: «наполеоновский» комплекс
Р. С казуистикой Р. вступает в противоборство сама жизнь. Болезнь Р.
после убийства показывает равенство людей перед совестью, она есть
следствие совестливости, так сказать, физиологическое проявление
духовной природы человека. Устами служанки Настасьи («Это кровь в тебе
кричит») народ судит преступление Р. «Двойники» Р.— Лужин и
Свидригайлов,— искажая и передразнивая его с виду эстетичную теорию,
заставляют Р. пересмотреть взгляд на мир и человека. Теории «двойников»
Р. судят самого Р. Теория «разумного эгоизма» Лужина (пародия
Достоевского на идеи И.Бентама, Н.Чернышевского и
социалистов-утопистов), по мнению Р., чревата следующим: «А доведите до
последствий, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно
резать…» Свидригайлов, выведав о преступлении Р., считает его как бы
своим собратом по греху, передергивает трагические признания Р. «с
видом какого-то подмигивающего, веселого плутовства». Наконец, спор
Порфирия с Р. (ср. издевку Порфирия над тем, как же отличать
«необыкновенных» от «обыкновенных»: «нельзя ли тут одежду, например,
особую завести, носить что-нибудь, клеимы там, что ли, какие?..») и
слова Сони, сразу перечеркивающие хитрую диалектику Р., вынуждают его
встать на путь покаяния: «Я ведь только вошь убил, Соня, бесполезную,
гадкую, зловредную». — «Это человек-то вошь!» Соня читает Р.
евангельскую притчу о воскрешении Лазаря (подобно Лазарю, Р. четыре дня
находится во «гробе»), отдает Р. свой крест, ос тавляя на себе
кипарисный крест убитой им Лизаветы, с которой они обменялись крестами.
Тем самым Соня дает понять Р., что он убил свою сестру, ибо все люди —
братья и сестры во Христе. Р. претворяет в жизнь призыв Сони — выйти на
площадь, упасть на колени и покаяться перед всем народом: «Страдание
принять и искупить себя им…»
Достоевский в речи о Пушкине обращается с подобным призывом к
нигилистам-революционерам, организовавшим покушение на царя Александра
II (выстрел Каракозова), так же как и к властям, ответившим
общегосударственным террором: «Смирись, гордый человек, и узришь новую
жизнь!» (И.Волгин) Покаяние Р. на площади трагически символично,
напоминает участь древних пророков, так как предается всенародному
осмеянию. Обретение Р. веры, чаемого в мечтаниях Нового Иерусалима —
долгий путь. Народ не желает верить в искренность покаяния Р.: «Ишь
нахлестался! < ...> Это он в Иерусалим идет, братцы, с родиной
прощается, всему миру поклоняется, столичный город Санкт-Петербург и
его грунт лобызает» (ср. вопрос Порфирия: «Так вы все-таки верите же в
Новый Иерусалим?»; ср. также гоголевскую оппозицию: Петербург —
Иерусалим). Окончательный приход Р. к вере и отречение от «теории»
происходит на каторге, после апокалиптического сна Р. о «трихинах»,
заразивших человечество стремлением убивать. Как только Р. проникается
жертвенной любовью Сони, последовавшей за ним на каторгу, окружающий
мир сразу освещается иным светом, каторжники смягчаются к Р., его рука
тянется к Евангелию, подаренному ему Соней, происходит воскресение
«падшего человека».
Роман «Преступление и наказание» — наиболее часто инсценируемое
произведение Ф.М.Достоевского. Роль Р. исполняли многие выдающиеся
актеры: в их числе В.Н.Андреев-Бурлак (1884), Й.Кайнц (1890),
Н.П.Орленев (1899), Л.Ирвинг (1910), Дж.Гилгуд (1946). Самые
примечательные инсценировки отечественной сцены — Ю.А.Завадского (1969,
под назв. «Петербургские сновидения») и Ю.П.Любимова (1979): если в
первом спектакле была предпринята попытка оправдания Р., то второй
тяготел к его обвинению. Существует около десяти киноверсий романа;
первая снята в России в 1909 г. На экране роль Р. воссоздавали Петер
Лорре, Пьер Бланшар (оба в 1935, америк. и франц. фильмы), Г.Тараторкин
(фильм Л.А.Кулиджанова, 1970).
Лит.:
Бердяев Н. Миросозерцание Достоевского. Прага, 1923; Аскольдов С.
Психология характера у Достоевского // Ф.М.Достоевский. Статьи и
материалы под ред. А.С.Долинина. Л.; М., 1924. Сб.2; Эн-гельгардт Б.М.
Идеологический роман Достоевского // Там же; Бахтин М. Проблемы поэтики
Достоевского. М., 1972; Бем А. Личные имена у Достоевского // Сборник в
честь на проф. Л.Милетич за седем-десетгодишнината от рождението му
(1863-1933). София, 1933; Толстой и Достоевский // О Достоевском.
Сб.статей под ред. А.Л.Бема. Прага, 1936. Т. III; Евнин Ф.И. Роман
«Преступление и наказание» 341 // Творчество Ф.М. Достоевского. М.,
1959; Этов В.И. Достоевский. М., 1968; Коган Г.Ф. Комментарии //
Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. М., 1970 («Литературные
памятники»); Кирпотин В.Я. Разочарование и крушение Родиона
Раскольни-кова. М., 1970; Альтман М.С. Достоевский. По вехам имен.
Саратов, 197S; Карякин Ю.Ф. Самообман Раскольникова. М., 1976; Белов
С.В. Роман Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»: Комментарий.
М., 1984; Волгин И. Последний год Достоевского. М., 1991; Борисова В.В.
Синтетизм религиозно-мифологического подтекста в творчестве Ф.М.
Достоевского (Библия и Коран) // Творчество Ф.М.Достоевского: Искусство
синтеза. Екатеринбург, 1991; Галкин А. Музыкальное мышление
Ф.М.Достоевского и лсйтмотивность композиций его романов // Достоевский
и мировая культура. Альманах №3. М., 1994; Галкин А. Пространство и
время в произведениях Ф.М.Достоевского // Вопросы литературы. 1996, №1.
|